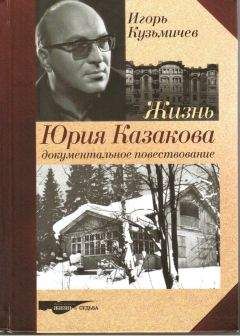— Не грязно вам тут покажется? — несколько иронически спросил меня знакомый моего приятеля. А был он старик старомосковский и говорил, как у нас теперь и не говорят, и в бога верил открыто и даже несколько надменно по отношению к нам, как-то гордо и подчеркнуто, но был мил, по-качаловски обаятелен, и тоже в пенсне, бритый был и чистый, в светлом старомодном картузе ходил и разговаривал так громко, так отчетливо, звучно и вкусно, что многие оглядывались.
— Может, хотите в Доме приезжих остановиться? — спросил он опять. — Или в монастырской гостинице?
«Ай-яй-яй! — снова подумал я. — И гостиница монастырская есть! Ай да город, ай да и забрались мы!»
А час спустя, попив чаю, пошли мы в монастырь. Был он тут же рядом, сперва церковь на зеленой лужайке, обнесенной низкой каменной стенкой, вся в деревьях, белая, с голубым шпилем, как на ленинградских церквах, а чуть подальше и монастырская стена с башенками, с низкими воротами, с иконой над воротами, с нищими, какими-то калеками, убогими.
И надо видеть, с каким достоинством и вкусом отмахнул наш старик свой старомодный картуз, как склонил твердый свой, большой, чисто выбритый подбородок на грудь, как перекрестился — медленно и важно, и прошел в темноту подворотни мимо привратника, мимо всех калек и нищих.
Этот монастырь в Печорах — странный какой-то монастырь. Все надо идти вниз и вниз, в овраг, и там внизу — древность, чистота, обилие цветов, там перемешана архитектура новгородская, псковская и киевская, там много церковок и церквей и одна из них в пещерах — выведена только передняя стена и купола наверху, внутренность церкви в пещере — темнота была, хотя и стоял день, только рубиново и зелено мерцали лампады, только жарко и желто горели нестройные ряды и пучки свеч.
И как-то сразу серьезно настроившись, полезли мы за нашим стариком, в глубину, туда, где слышалось прекрасное старческое пение, куда-то под своды, мимо теснящихся старух, женщин в черном, бледных стариков, мимо комков, приникших к полу, и эти комки были людьми, — а там в глубине, в сводчатом проходе, перед ракой святого Корнилия, покоящейся в глубине, стояли по обе стороны человек двенадцать древнейших монахов в клобуках и ризах, во главе их стоял и читал какую-то толстую книгу еще один монах, но самый важный, в митре, а кругом — впереди и сзади нас — теснились молящиеся с мокрыми от слез глазами и все разом, когда надо, дружно возглашали: «Радуйся, Корнилие, радуйся!» — служили акафист Корнилию.
А больше как-то ничего у меня не осталось от Печор, но осталось ощущение покоя, чистоты и музыкальности, потому что по утрам, и днем, и на закате звонили монастырские колокола, и куда бы ни уйти из города, хоть за десять километров в поля или в лес, звон этот был явственно слышен.
И вот на другой год, проболтавшись полтора месяца на Севере, я ехал домой, и мне хотелось писать о рыбаках и обо всем, что я там увидел, и тут я вспомнил Печоры, и мне захотелось туда. Год прошел, и я забыл почти все, но тишина и чистота остались, и у меня даже сердце замерло, когда я подумал, как я там буду сидеть и вспоминать своих рыбаков и стараться получше их описать.
И вот дня через три я сел в автобус, всю ночь мчался, начало только рассмеркаться, я приехал в Псков, тут же нашел машину и поехал в Печоры. Я приехал туда, уже солнце поднялось, мост через Пачковку ремонтировали, мы поехали в объезд, к станции, Печоры поворачивались ко мне своими разными сторонами, и с какой стороны я ни смотрел на них, все было прекрасно, и я приехал на ту же улицу, где жил прошлый год.
А до этого меня захватило вдруг необычайно сильное ощущение русского, а это не везде случается, но тут эта моя сыновность вдруг объявилась, еще когда мы ехали мимо Изборска с его крепостью в развалинах, с круглыми башнями из сероватого камня, а потом пошли поля, поля с бабками сжатого хлеба, с желтой стерней, с хуторами, там и сям разбросанными в островках берез и осин, — и такая древность была в этой псковской земле, что я только вздыхал.
Я вылез из машины, оглянулся: все то же, и то же время года, и улица, и заборы, и яблони... а травка гусиная между булыжника выпирала, и тротуары были кирпичные, отшлифованные, стертые, и чистота была моя и воздух, и монастырь был тут, хотя для меня монастырь этот был нужен, как музыка, своим колокольным звоном, и я уж разглядел за зеленью его башенки по стенам.
Зашел я в один двор, мест не было, зашел в другой — тоже, скоро должен был праздник наступить успенье божьей матери, много богомольцев везде стояло, и вот в одном доме простоволосая старуха сказала:
— А у Белянина Михал Михалыча вы не были? Так я вас сведу.
Накинула платок и подхватилась в конец улицы, к угловому дому, ближе к монастырю. Вошли в узенький дворик, и только вошли — навстречу нам сам хозяин, сам Михаил Михайлович, пожилой такой, небольшого росточку, со склеротическим румянцем на скулах, в старой кепке с большим козырьком, в сером плаще, собрался куда-то.
— Михалыч! — сказала моя баба. — У тебя комната-то свободна ли, вот человек из Москвы, пустишь?
— Комната? — Михаил Михайлович как-то растерялся, смутился, засуетился. — Что ж, пожалуйте...
И тут же повернулся назад, а баба ушла. Вошел я в комнату — дом старый, но окна большие, и комната большая, угловая, и окна на обе стороны — одно на улицу, два на монастырь. И диван был. И стол, и кровать хорошая, и даже приемник, и этажерка, а там книги какие-то зачитанные, толстые.
— Сколько же вы просите? — спросил я.
— А вы надолго приехали?
— Не знаю, недели на две, на три.
— Сто рублей не дорого? — сказал и сам покраснел до испарины, и тут же кепку сдернул, оказался совсем лысый, до затылка, и лысина покраснела у него от такого разговора. Голова у него была, как говорят, толкачом, или яйцом, нос остренький, брови рыжеватые, козырьками, глаза маленькие, серые, голос тихий, чуть сиповатый — и как-то он прелестен был, весь светился чистотой и тихостью, и так смущался, будто не я, а он пришел проситься пожить.
— Мои на юг уехали, в Крым, — поспешил он сказать. — Вот комната. Да, комната свободна... пожалуйста... Только удобно ли вам будет, двери ведь нет в мою комнату, видите, занавеска висит.
Я тут же начал чемодан распаковывать. <...>
— Магазин у вас далеко? — спросил я.
— Близко, на площади.
— И открыт?
— Сейчас восемь часов.
И тут же сказал доверчиво:
— Вот вам ключ, я в школе работаю, во вторую смену. А ключ я вам покажу, где мы кладем. А сейчас, извините, пожалуйста, я на рынок пойду. Грибы у меня, грибки вот...
Мы вышли в сени, и в углу увидал я целый короб грибов-лисичек. Так мы и пошли вместе — я в магазин, M. M. с лисичками на базар. Я его потом видел, <...> стоял он в ряду, где ягодами да грибами торговали, в своей кепке, кротко поглядывал из-под бровей, а перед ним грибы эти, лисички, и тут я увидел, что лисички-то староватые, уж кое-где и побитые, потемнелые, и какой-то очень уж незаметный был этот M. M. в своем плащике, и никто не хотел у него грибы брать, зря-то он старался, в лес ходил, ноги свои старые бил.
Пришел я домой, <...> окно раскрыл в сторону монастыря. И еще высунулся, посмотрел туда-сюда и вдруг уловил запах, которым, как я уже потом понял, пахнут все западные города, в которых мне потом пришлось побывать, — запах каменной пыли. Не обыкновенной пыли, а именно каменной, когда люди идут и идут годы и годы все по одним и тем же каменным плитам и стирают их своими подошвами, и в воздухе стоит тогда такой едва уловимый острый каменный запах, похожий отдаленно на то, как пахнет, когда бьешь кремень о кремень, высекая искры. <...>
В каком году это было? Да в 1960-м — во второй половине августа, значит, уж два с половиной года прошло, а мне иногда кажется, что двадцать, и очень захотелось рассказать про этого M. M. <...>
1963
Закарпатская проблема[ 13 ]
Сначала я хотел написать только о деле, только о проблеме, с которой сталкивается турист в Закарпатье. Как говорится, без всякой лирики. Но потом я подумал: дела людские делами, а природа в Закарпатье прекрасна и народ тоже, и секретарь Раховского райкома В. В. Орос при встрече попросил хоть немного написать о красоте края. Так что чистосердечно говорю друзьям туристам: приезжайте в Закарпатье в любое время года, поживите там хоть немного, побродите по горам и долинам, и вы уедете очарованными, и Карпаты останутся с вами навсегда!
Я был в Карпатах в марте. А март — плохой месяц, осенний какой-то, беззащитный. Деревья голые, на ветках висят крупные светлые капли, под ногами — красные сырые листья. Грязные колеи на горных дорогах, серое низкое небо, порывами задувает холодный ветер сверху. По горам ползают облака, заваливаются в ущелья, переполняют их и выпирают потом вверх, как пенные шапки.
Если непогодится, то март в Карпатах — как ноябрь. Идет, идет мокрый снег, утром выйдешь — сырая зима, крыши белые, и белые горы уходят вверх, в туман, а вершин не видно. Асфальт черен и мокр, и велосипедисты едут с поднятыми, надвинутыми на голову капюшонами плащей, и на лошадях курчавится шерсть.
![Юрий Казаков - Две ночи [Проза. Заметки. Наброски]](https://cdn.my-library.info/books/210606/210606.jpg)